 |
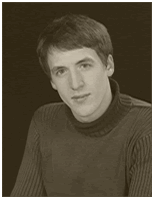 |
 |
Артур Смольянинов: Человек – это то, что он делает, а не то, что он говорит
Артуру Смольянинову только 30 лет, но кажется, что на театральной сцене и в кино он уже очень давно. Проверяем себя и смотрим биографию актера, в которой тут же находим подтверждение догадкам: в своем первом фильме Артур Смольянинов снимался, когда ему исполнилось 14 лет. Это была картина Валерия Приемыхова «Кто, если не мы», вышедшая на экраны в 1998 году. В 2000 году Смольянинов поступил на курс к Леониду Хейфецу, который окончил в 2004-м, а еще через два года пришел в театр «Современник», где работает до сих пор и где он уже давно в когорте ведущих артистов. Сниматься за все это время не переставал, и в его фильмографии на сегодняшний день 45 картин. Однако профессия, в которой одна главная роль следует за другой, занимает далеко не все время и мысли артиста. Артур Смольянинов вошел в попечительский совет фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун практически сразу, как только тот был образован, и занимается благотворительностью много, хотя и совсем не говорит об этом. Он вообще не очень охотно говорит. Намного более охотно делает. Он в принципе человек дела, поэтому выглядит и ведет себя соответственно: немногословен, решителен, внимателен и сосредоточен.
– Вы уже восемь лет работаете в театре «Современник», где почти сразу стали ведущим актером. А как получилось, что вы пришли именно в этот театр?
– Мы снимались в кино с Сергеем Гармашем, у нас возникла взаимная человеческая симпатия, мы много общались, и както я рассказал ему, что очень хочу работать в «Современнике». И он, узнав об этом, организовал нашу встречу с Галиной Борисовной Волчек. Мы поговорили минут сорок у нее в кабинете, и вышел я оттуда с ролью Соленого в ее «Трех сестрах».
– Театр часто обвиняют в том, что в нем все происходит по блату и свои приводят своих, что вы только что и подтвердили своим рассказом…
– Так могут рассуждать только далекие от театра и в принципе недалекие люди, мало чего сами в жизни делающие. В театре не приобретешь ни много денег, ни много власти, ни всемирной славы, то есть ничего такого, что обычно притягивает бездельников и прочих бесцельных людей, которые хотят, чтобы было все и сразу и ничего за это не было. Театр – это дело, и если ты делаешь его всерьез, то оно крайне энергозатратно и требует большого к себе внимания. В театре все зависит только от тебя – как ты покажешься, как пройдет разговор, возникнет ли взаимный интерес, а дальше, если все случается и тебя берут, никто за тебя пьесу не прочитает, текст не выучит, роль не придумает и не сыграет. За каждый свой выход на сцену ты несешь персональную ответственность в первую очередь перед самим собой и перед людьми, которые в зале. В театре очень мало случайных людей, а если таковые и попадаются, то, в конечном счете, они сами естественным образом отпадают.
– Про Галину Борисовну Волчек говорят, что она самая главная защитница своих артистов. Это так?
– Она совершенно фанатично, до самоотречения преданный и влюбленный в свое дело человек! И эта ее любовь – первопричина. Все остальное – это лишь следствие. Театр – ее детище, а мы, все в нем работающие, в какомто смысле ее дети, и, конечно, она будет, если это необходимо, нас защищать, оберегать, спасать, защищая тем самым театр. Это, конечно, не значит, что за стенами театра жизнь и люди для нее не существуют, что она не поможет совершенно незнакомому человеку в какойто отвлеченной житейской ситуации, если понадобится. Она вообще, помоему, к реальности очень внимательна, отзывчива и восприимчива, иногда даже слишком, но, когда дело касается театра, все в сто раз обостряется.
– Говорят, что Галина Борисовна строга. Актеры в театре ее не боятся?
– Бояться – занятие совершенно бесплодное и бессмысленное. Как можно бояться того, кого любишь? Как можно общаться, если боишься? Как можно любить, если боишься? Как вообще можно жить и чтото делать, если боишься? К Галине Борисовне мое отношение постепенно менялось. Поначалу это были некий трепет, робость, такой юношеский восторг, потом я вырос, и на смену трепету естественным образом пришли уважение, тепло и понимание, что это большой и сильный человек, с которым, на мое счастье, наши пути пересеклись.
– Соленый – ваша первая роль на сцене «Современника». Ваше отношение к нему поменялось за те восемь лет, что вы его играете?
– Очень. Когда я только начал играть Соленого, я его не чувствовал и не понимал. Вернее, чтото понимал, конечно, но на очень поверхностном уровне. И в большей степени я просто выполнял рисунок, используя свою природную органику. Со временем я с Соленым познакомился ближе, многое о нем понял и очень его полюбил. Сейчас это совершенно другой человек по сравнению с тем, что был восемь лет назад. Но у меня не только к Соленому – ко всем моим персонажам отношение меняется постоянно, потому что я сам меняюсь, и моя жизнь тоже. Биоритмы замедляются, успокаиваешься немножко и начинаешь на вещи смотреть спокойно и рассудительно. Подчиняешь себя трезвому рассудку. Не холодному, а трезвому.
– Еще один ваш знаковый персонаж в «Современнике» – Горчаков из спектакля Евгения Каменьковича «Горбунов и Горчаков» по Иосифу Бродскому.
– Да. Но о нем я бы не хотел говорить – об этом человеке, которого я играю.
– Почему?
– Не хочу. О спектакле – пожалуйста. Он идет уже третий сезон, и если на премьере это был такой... Бэмби, то теперь он очень набрал. Да и мы с Никитой Ефремовым тоже выросли. Текст и обстоятельства поэмы все время както накладываются на контекст нашей жизни, возникают новые смыслы, и спектакль постоянно меняется. Уже практически до неузнаваемости изменился с момента премьеры. Но для меня остается едва ли не самым важным в репертуаре сейчас. Каждый раз он меня кудато двигает. Каждый раз заставляет напрягаться и задумываться, как, собственно, и все другие спектакли. Но этот, конечно, в большей степени.
– От того, что текст роли написан в стихах, меняется ли чтото в вашей актерской работе?
– В театре, как и в жизни, важно не то, что в словах, а то, что между строк, за словами. Так и в этой истории: самое важное то, что происходит между этими двумя людьми с абсолютно полярным восприятием жизни, находящимися в экстремальных условиях замкнутого пространства, физической несвободы и нечеловеческого к себе отношения. Как оба они смотрят на происходящее с ними, как их взгляды и интересы сталкиваются, что они делают в связи с этим и как меняются от начала к финалу. Плюс к этому, конечно, они еще и говорят стихами, да какими! Текст здесь является третьим главным героем, живущим своей самодостаточной жизнью и каждый раз совершенно непредсказуемо влияющим на ход спектакля. В нем заложено такое количество самых разных смысловых пластов и глубоко личных, очень сильных душевных переживаний автора, что в какойто момент они в том или ином месте неожиданно открываются и начинают вести нас за собой, вести спектакль по совершенно иному, чем мы предполагали перед началом, руслу. К тому же само по себе огромное удовольствие – произносить стихи Бродского вслух, исследовать эту практически совершенную и абсолютно бездонную архитектуру слова, языка. А с точки зрения техники работа со стихом отличается от работы с прозой тем, что возникают такие понятия, как ритм, созвучия, рифмы. Например, на репетициях Каменькович добивал нас, чтобы, например, в слове «постоянно» мы бы произносили, а он бы слышал две, даже лучше три буквы «н». И мы понимали, что эти три «н» важны, потому что это стихи, и потому что благодаря этим трем «н» в строке как будто бабочка из куколки рождается, слово обретает объем и верное звучание.
– С Евгением Борисовичем Каменьковичем вы сделали два спектакля в «Современнике» – «Горбунов и Горчаков» и «Джентльменъ». В вашей жизни это режиссер знаковый?
– У нас с ним отношения задолго до этих двух спектаклей начались. Я ведь поступал к нему на курс в Школустудию МХАТ. Тогда он меня покорил совершенно своей искренней веселостью и жизнелюбием, и я очень хотел к нему. Мне казалось, что он меня тоже выделил из всех, потому что позвал сразу на третий тур, а потом – опа! – не взял меня, мотивируя это тем, что я все равно буду сниматься, а учиться не буду. Чуть позже, после окончания вступительных экзаменов, когда я уже поступил в ГИТИС к Леониду Хейфецу, мне домой, в Королев, где у нас не было телефона, пришла телеграмма: «Срочно перезвоните. Каменькович». Трудно описать, что происходило со мной, пока я шел до станции, где телефон был. Чего я только ни передумал: что освободилось место, и меня берут на курс, еще чтото... Но оказалось, что Каменькович приступил тогда к репетициям «Кухни» с Олегом Меньшиковым и зовет меня познакомиться с Олегом Евгеньевичем. Я приехал, познакомился – и снова мимо. С тех пор, когда я вспоминал о Каменьковиче, то всегда с такой веселой злостью, и очень хотел с ним когданибудь еще встретиться. В результате все так сложилось, что мы сделали с ним два спектакля. Работать с ним оказалось крайне увлекательно, познавательно и полезно для общего развития, так как он большой эрудит и все время советовал чтонибудь почитатьпосмотреть, в том числе и связанное с материалом, над которым мы работали.
– В «Современнике» он вас сразу утвердил на роли или были пробы?
– Да уж нет, без проб обошлось на этот раз.
– Интересно, а для кино вас еще просят участвовать в пробах? Ведь это среда, где вас уже очень хорошо знают.
– Бывает, что без проб утверждают. Бывает, что приглашают на пробы, и если я, так или иначе, заинтересован в этой роли, то иду и пробуюсь. Это совершенно нормально, это тоже часть работы. Музыкант пишет этюды, художник эскизы, писатель наброски – черновики всякие, режиссер снимает пробы. Режиссер – художник, актеры – краски. Он пробует одну, другую, десятую и понимает, что вот эта и эта ему нужны, а вот эта, даже самая сочная и красивая, в этой конкретной работе ну никак не подходит. Но он ее запомнит и использует в следующей или посоветует коллеге. Ничего личного, как говорится, это работа. И потом прошлое, оно в прошлом. Если ты сыграл хорошо вчера, это же не означает автоматически, что тоже самое с тобой произойдет сегодня. Новый день, новый ты, новая работа, не имеющая никакого отношения к предыдущей. Важно то, что есть, а не то, что было. Каждый день. Здесь и сейчас. Для меня по большому счету глобально ничего не меняется. Мне просто снова надо сделать хорошо свое дело. Пробы – это, по сути, те же съемки, только в миниатюре.
– Наверняка бывало, что вас не утверждали на роли, которые вам очень хотелось сыграть. Вы очень переживали?
– Я очень переживал раньше, теперь нет, не переживаю почти совсем. Понимаю, что раз нет, так и нет, живем дальше с тем, что есть.
– Было такое, чтобы вы просили роль?
– Было такое, что мне в руки случайно попадал сценарий, и я приходил и говорил: дайте мне попробовать. Мне говорили «давай», я чтото делал, и мне говорили либо «да, это твое», либо «нет, не твое».
– Не обидно, когда говорят «это не твое»?
– Да нет. Ну, значит, не мое, бывает. Значит, в другой раз будет мое. С опытом начинаешь относиться к таким вещам спокойно: все всегда к лучшему и все всегда вовремя в итоге оказывается. Жизнь – это то, что у тебя есть здесь и сейчас, а не то, чего нет.
– Вы это поняли в связи с какойто конкретной историей?
– Нет. Просто я в какойто момент понял, что работа – это же не вся жизнь. Да, это интересно, это нравится, это весело и за это платят деньги, но этим жизнь не ограничивается. Это все равно только работа, как бы я ее ни любил.
– Но без работы вы ведь и не пробовали никогда? У вас же не было долгого периода простоя?
– Почему? После «9 роты» почти год ничего не было. Тоскливо было, это я хорошо помню. Так что, конечно, лучше, когда работа есть, чем когда ее нет. Но я знаю, что, если вдруг ее не будет, я смогу заниматься чемто еще. Просто потому, что это зависит только от меня. В общем, сначала человек, а потом то, что он делает. Если есть желание и страсть к познанию жизни, а еще голова на плечах, не потеряешься.
– Вы довольны тем, как складывается ваша жизнь в профессии?
– Более чем. И поскольку я не загадывал ничего, то мне и сравнивать не с чем. Кроме того, мне кажется, что пока у меня еще только разгон, а главное все впереди.
– Вы когдато говорили, что хорошо бы сыграли музыканта или спортсмена. Вы имели в виду какогото конкретного персонажа?
– Нет, я имел в виду образ жизни, который мне близок: подчинение себя делу, борьба с самим собой, рефлексии.
– А вам легко бороться с собой?
– Смотря, в каких обстоятельствах, и, смотря по какому поводу, идет борьба. Но всегда интересно и полезно, если борешься и побеждаешь. Например, я играю в футбол два, а то и три раза в неделю. В футболе большая игровая составляющая, и мне это больше нравится, чем монотонное тягание штанги наедине со своими мышцами. Но прикладывать усилия в футболе все равно надо, и еще какие! Но больше всего в футболе, да и в спорте вообще, мне нравится, что не нужно говорить. Ты можешь тридцать раз сказать, что я сейчас забью, но если при этом стоишь на месте, ничего не произойдет. Нужно сделать усилие, рывок, добежать до чужих ворот и ударить по мячу. А потом еще вернуться в защиту и там отработать, сделать так, чтобы не забили тебе. И вот, когда тебе кажется, что все, ты так устал, что уже не можешь идти – не то, что бежать, ты делаешь над собой усилие, говоришь про себя только одно слово «беги», заставляешь всетаки побежать, побороться и отобрать мяч, в эту секунду ты испытываешь огромный прилив сил и эмоций, становишься сильнее и физически, и ментально. Понимаешь, что можешь гораздо больше, чем тебе кажется. В такие моменты ты растешь. Спорт, как ни банально это звучит, реально воспитывает, закаляет и развивает характер. А от говорения я очень устаю и часто не вижу в этом занятии особого смысла. Человек ведь – это то, что он делает, а не то, что он говорит. Говорить мы можем часами, тоннами, и ничего с места не сдвинется. А можем встать со стула и за пять минут чтото сделать.
– Ваше нежелание говорить о благотворительности, которой вы активно занимаетесь, связано с этой усталостью от слов?
– Да не то чтобы нежелание, просто не вижу особого смысла говорить о том, что происходит само собой, по обстоятельствам и естественным образом вплетено в канву жизни, являясь лишь незначительной ее частью. И так понятно, что человеку надо помочь, если ему надо помочь. Вы же не рассказываете каждому встречному, что подсказали комуто дорогу или помогли по лестнице спуститься. По сути, для меня это то же самое. Сделал – молодец, спасибо, пошел дальше. Чего говорить? Я не занимаюсь благотворительностью активно, как ею занимаются некоторые мои друзья и знакомые – за что им честь и хвала, – отдавая все свое время и силы помощи другим людям и, что важно, поиску тех, кому она нужна. Я просто иногда помогаю тем, кто помогает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вот и все.
– Вас всегда хватает на то, что вы считаете, вы должны делать?
– Нет. Иногда я позволяю себе лениться. Просто лежать целый день дома и ничего не делать. Вообще. Кино смотреть. Не специальное, а какое в голову придет.
– Вы можете описать, на что это похоже – играть на сцене? Что происходит с вами, когда вы начинаете играть?
– Это чтото вроде эффекта от ЛСД, только в легкой форме. Перемещаешься в другую реальность. Или, не знаю, как в войнушку в детстве играли или в дочкиматери или в магазин: представляешь себя кемто другим и очень серьезно начинаешь в это играть, со всеми подробностями и переживаниями, получая большое удовольствие от продажи камушков за листики или от выполнения сверхсекретного невыполнимого задания. По сути, то же самое, только более осознанно и регулярно.
– Правда, что время на сцене подругому идет?
– Иногда замедляется, иногда ускоряется, иногда один в один идет, и ты ощущаешь, что ты прямо здесь и сейчас, только это не ты, а ты плюс еще ктото другой. Даже больше ктото еще.
– Вы про персонажей думаете «я» или «он»?
– Он. Конечно, он. Потому что это не я, а другой человек.
– А расскажите про вашего «другого человека» – Хлынова в «Горячем сердце». Он хотя бы чемто похож на вас или он совсем другой?
– Это очень, очень одинокий человек, с огромной пустотой внутри, отчаянно ищущий и не находящий, чем же ее заполнить. Потому что, казалось бы, он добился всего, о чем мечтал, а вышло так, что он, оказывается, не о том мечтал совсем, и ни счастья, ни любви, ни радости ему все его достижения не принесли. И что дальше – совершенно никак ему непонятно, и от этого он страшно мается и мучается. В своем поиске он заходит очень далеко, до самых краев и, в принципе, находится на грани помешательства или самоубийства. И мне его офигительно жалко.
– Есть ли роли, играть которые вы не согласитесь ни за что? Не знаю, маньяка какогото.
– Нет! Наоборот, чем дальше от меня персонаж по своей природе и биографии, тем интереснее мне его играть. У меня нет никаких абстрактных табу. Может быть, какогото конкретного маньяка я и не соглашусь играть. А другого – очень даже. Бывают же такие многомерные и неоднозначные маньяки, что просто почеловечески интересно в нем поразбираться: как он пришел к такому пограничному состоянию сознания. При условии, конечно, что он хорошо написан, а не плоско.
– Вам в профессии тяжело или легко?
– Поразному бывает, но главное, что мне весело и интересно в любом случае, ведь любая профессия – это просто отношение к тому, что ты делаешь. И когда к этому ощущению приходишь, то все становится просто и понятно.
– То есть у вас совсем нет страха, что сейчас придет ктото помоложе и поплечистее и начнут звать и выбирать его, а не вас?
– Нет. Ну, это все равно, что у одной рыбы в Тихом океане спросить, не страшно ли ей, что сейчас приплывет другая рыба. Нет, не страшно. Пусть приплывает. Места всем хватит.
Беседовала Екатерина АНТОНОВА
«Театральная Афиша», июнь-июль 2014 года
|
 |