 |
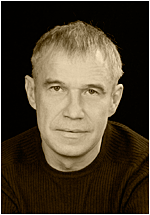 |
 |
Любовники и погоны
Сергей ГАРМАШ: “Какой Гринуэй, тут натура во Пскове”
Он сыграл в 60 фильмах, и все привыкли, что либо военных, либо милиционеров. Но в жизни Сергей Гармаш — вполне современный импозантный мужчина, в стильных темных очках и наушнике от мобильника, который не снимает. Артиста в нем видно. С другой стороны, просто по разговору, по постоянно меняющейся дистанции с собеседником — от дальней до ближней и обратно до средней — заметна его открытость и даже незащищенность. Наконец, он очень живой. Несколько раз пришлось выключить диктофон. Как только наш разговор касался какой-нибудь больной темы, от инфантильности нынешней молодежи до невозможности обмануть самого себя (“если человек не сумасшедший”), кончалось интервью, и шла бурная полемика. Прямо с пеной у рта. Так я и получила открытый урок актерской заразительности.
— А вы такой небритый из-за какой-то роли или просто очень устали?
— Иногда я не бреюсь перед спектаклем “Мурлин Мурло”, а сегодня, честно говоря, просто-напросто не успел. Опаздывал на репетицию.
— Когда вы сегодня думаете о работе, то это о чем — о театре, о фильмах, о сериалах?
— Если я в тот момент снимаюсь у Месхиева в картине “Свои” и играю там роль чекиста, то я думаю об этом. (Съемки “Своих” уже закончились, идет монтаж, премьера намечена на сентябрь. — К.Т.) Если, как прямо сейчас, у меня перерыв, то я читаю сценарии и думаю, где работать дальше. Предложений в избытке. Сейчас наступило такое время, что для актера, который известен, заработать деньги — не проблема. Хочется качества и удовольствия. Это не всегда совпадает.
— Можете рассказать, как дошли до жизни такой, родившись когда-то под Херсоном?
— Нет, не могу больше. Столько раз рассказывал — сил нет. Все это действительно было случайно и в принципе уже неважно.
— Ну, в двух словах?
— Родился в Херсоне, окончил восьмилетнюю школу, поступил в Днепропетровское театральное училище, после него работал год в Херсонском театре кукол, затем служил в Советской Армии, после чего поступил в Школу-студию МХАТ.
— В средней школе были хулиганом?
— Да.
— Вы из театральной семьи?
— Нет. Пока я рос, папа работал водителем, потом окончил политехнический институт, стал начальником колонны, руководил автопредприятием. А мама всю жизнь была диспетчером на автобусной станции.
— В детстве книжки читали?
— Да. Читать каждый день перед сном я начал с 5-го класса.
— В каких войсках служили?
— В строительных. Собирался, как все артисты, в ансамбль песни и пляски, но прослужил в Бологом и некоторое время на Печоре.
— Когда из армии пришли, уже ничего не боялись?
— Наоборот, дико волновался. Ровно месяц я отдыхал — поехал с родителями в Карпаты, потом к дедушке в Евпаторию, — и все это время мне казалось, что я ужасно отстал от жизни. Хотя, с другой стороны, в армии я прочитал всего Шекспира, очень много поэзии (у меня был друг-библиотекарь), любил Есенина, Заболоцкого. Но сложилось такое ощущение — ложное, как теперь ясно, — что я очень отстал, и для Москвы нужно приготовить особенный репертуар, взять самое последнее.
— Что взяли?
— Жутко патриотическую вещь, напечатанную в “Литературке”. Рождественский — про 120 шагов караула к Мавзолею. Поэма новая, думаю: “Вот”. Потом наскоро еще какую-то прозу выучил, приехал сюда и пошел в Щепкинское училище. По одной-единственной причине: точно знал, где оно находится. Ну, там сидел Соломин: “Кто первый?” Я радостно говорю: “Я!” Вышел — и через 30 секунд понял, что просто кирдык. Потом затряслось колено, я почувствовал, как подо мной проламывается пол, мне сказали: “Спасибо” — и когда я сел, дождаться остальных десять человек было самое ужасное. Потом, как всегда, подошла милая женщина: “Вам лучше вернуться на Украину — у вас уже есть диплом, а у нас вы никогда не пройдете по конкурсу”.
— Сильно переживали?
— Вышел, помню, была пятница, вечер, и вот два с половиной дня просто ходил по Москве. Целенаправленно: в Третьяковку, на ВДНХ, в Парк культуры, в Нескучный сад. Но какая-то совершенно подсознательная работа шла. Потом вдруг приходит мысль: “Да, боже мой, чего же я читаю — только что выучил?.. Зачем это нужно? Почему бы не почитать, что самому нравится? Не выйдет — уеду. Все ж быстро”. А на дипломе у меня хорошо шла “Братская ГЭС” Евтушенко, еще был Шукшин. И я пошел в Щуку. Совершенно спокойный. Как танк. Начал, чувствую себя хорошо, мне говорят: “Спасибо. Прозу”. Начинаю прозу: “Спасибо. Садитесь”. Чувствую другое отношение. Мне говорят: “Второй тур”. Я тут же оттуда иду в Школу-студию МХАТ, тоже читаю — мне опять говорят: “Никуда не уходи. Второй тур — прямо сегодня, в пять часов вечера. И не читаешь ничего, кроме Шукшина”. Я прочел, вечером мне сказали: “Все, сдавай документы, никакого третьего тура, пройди врача, покажешь танец-музыку — и вперед, на экзамены”. Но на следующий день я еще пошел в ГИТИС и там тоже прошел два тура. И вот тут была дилемма, куда все-таки сдавать. Я выбрал Школу-студию МХАТ. Там была потрясающая атмосфера.
— Какая?
— Всегда сидели два дежурных первокурсника на пятачке, и если пять раз проходил мимо преподаватель, пять раз вставали и здоровались. Я в первый день пришел, и мне в коридоре — студент четвертого курса: “Здравствуйте”. Вы бы мат в коридоре не услышали никогда. Ну, может, в туалете... В общем, это отдельно: я про Школу-студию могу долго рассказывать.
— Жили в общаге?
— Первые два курса — да, на третий год мы с приятелем работали дворниками, и у нас была благодаря этому на “Динамо” трехкомнатная квартира: захотелось свободы. На четвертом мы с будущей женой уже снимали квартиру в Олимпийской деревне. Но в общежитии я за жизнь пожил достаточно. В общем, только с 98-го года отдельно.
— У вас поэтому так поздно дочка родилась?
— Может быть, в каком-то смысле. Вон эта общага “современниковская” — через дорогу. Она до сих пор существует. 12 комнат, два туалета, две кухни и одна ванная. Мы там прожили пять лет. Дочь родилась, когда мы оттуда выехали, — буквально через неделю. И мы въехали в коммуналку. Это еще десять лет.
— Ваша жена тоже актриса?
— Да, мы однокурсники, Инна тоже работает в “Современнике”. Дочь поздно родилась, потому что, когда мы туда пришли, жена первой начала играть — Елену в “Днях Турбиных”. Было много ролей, и было такое ощущение, что нужно работать, работать, работать...
— Теперь вы в совершенно женском коллективе?
— Да уж. Жена, дочь и собака женского пола. Знаете, когда жена была беременная, я так себя настраивал, что все равно кто родится — сын или дочка. Но подсознательно был уверен: “У меня будет сын”. А когда Дашка родилась, я однажды подумал, держа ее на руках: “Господи, боже мой, как хорошо: ведь если бы у меня был сын, я бы никогда не смог его так любить! Ну, мальчик — ну, разве ж можно было бы его так любить, как ее?!” Хотя это тоже, наверно, заблуждение молодости.
— В какой момент вы поверили, что действительно можете быть актером, испытали состояние “я могу”?
— Да у меня даже приблизительно этого нет. Я первые лет 5—6 только привыкал к себе на экране, спокойно смотреть не мог. На дебюте, на “Отряде”, нас Симонов собрал и сказал: “Сейчас поедем на студию, я вам покажу пробы всех, и ваши в том числе. Завтра начнем с божьей помощью снимать кино”. И вот когда мы посмотрели, стояли в коридоре, курили в жутчайшем настроении, и Феклистов мне говорит на полном серьезе: “Серега, я в кино больше сниматься никогда не буду”. И я говорю: “Сань, я тоже…” Нет, сейчас уже есть какие-то профессиональные навыки. Я хорошо учу текст, например. Но до сих пор каждый раз — как в первый класс. Если ты можешь вести себя с режиссером, как первоклассник, — может, чего и выйдет.
— Какие из ваших ролей советской эпохи вы бы выделили?
— “Отряд”, “Карусель на базарной площади” с Адомайтисом — фильм, который, к сожалению, забыт. Безусловно, встречи с Абдрашитовым — “Армавир” и “Время танцора”. Но “Время танцора” — это уже несоветское время, как и “Повесть непогашенной луны” Цымбала. Вообще не бывает у обыкновенного актера, к которым я себя отношу, много удач, если он много снимается. Единицы можно назвать — Басов, Быков... — у которых не было проколов. А у меня огромное количество картин, про которые вспомнить нечего, а про некоторые — просто стыдно. Не то что стыдно, но я там зарабатывал деньги. У меня была семья, ребенок, все близкие — не в Москве, так что это понятно, но и я всегда понимал, что вот там я пытаюсь именно заработать.
— А какие съемки, какие отношения больше всего запомнились?
— Две встречи с Абдрашитовым и на сегодняшний день — еще два непохожих друг на друга режиссера, Тодоровский и Месхиев. Расскажу. Начиная с моего приезда в Севастополь на “Армавир”, съемки у Абдрашитова, — ты сразу становишься членом клана. Ужинаем вместе, обсуждаем. Я вообще мало помню случаев, когда сценарист постоянно присутствует на съемках, а Миндадзе — почти всегда. Мы на “Времени танцора” начали в Феодосии, переехали в Одессу, потом в Сочи, потом был месяц перерыва, потом вернулись в зимнюю Одессу в павильон, закончили снова в Феодосии, и жизнь была потрясающая. Я улетал в Москву на спектакль, Чулпан Хаматова и Степанов, скажем, оставались в Одессе, и мы созванивались: “Когда ты приезжаешь? А у нас съемка до таких-то”. Мы на тот период стали не разлей вода. Что далеко не всегда бывает в кино. Еще полтора года после “Времени танцора” все собирались у Вадима в кабинете на “Мосфильме”, отмечали какие-то даты: год выхода, два года выхода... И вот уже сейчас происходит премьера “Магнитных бурь” на “Кинотавре”, и я совершенно четко знаю, что вечером присутствующие в Сочи Маковецкий, Оксана Мысина, я, Игорь Ливанов — мы все пойдем к Вадиму. Все, кто у него когда-нибудь снимался, стали членами этого клана.
— У Месхиева по-другому?
— Он с одной группой снимает 12 лет, и знаете, почти нигде не осталось, чтобы соблюдалась та древнейшая киношная традиция, что на съемках в советские годы была, — “вынь да положь”. Это когда за чей-то счет праздновали каждую отснятую сотню кадров. Сотый кадр — “режиссерский”, двухсотый — “операторский”, четырехсотый — администрация и т.д. У Месхиева этот закон соблюдается железно. Когда снимали “Механическую сюиту”, то на наш “актерский” кадр — нам поляну накрывать — мы с Пореченковым, Хабенским и Зибровым написали капустник и исполняли его перед всей группой. Прошло четыре года, и в октябре снова на его картине я, Хабенский, Ступка, Аня Михалкова, Анна Суркова и молодой актер Евланов, очень интересный, опять делали целое представление. Дарили всем зеркальца, и на каждом было написано пожелание. Типа звукооператору — “Несинхрон”, директрисе — “Денег нет”, второму режиссеру — “Этот план мы снимем завтра”... Мы еще пели песню, которую написали. Но вам не понять: это внутреннего употребления. Только такого больше нигде нет. Притом само по себе оно возникнуть не может, а у Месхиева еще и не мешает процессу.
— Играя в “Любовнике”, как вы себе объяснили отношения с женщиной, одновременно и одинаково любившей сразу двоих? Может ли человек одновременно любить двоих?
— Безусловно, может. Для меня этот фильм нефальшивый, и мне не нужно было себя в этом убеждать. Дело в том, что человек может заблуждаться. И еще: когда женщины не стало, те двое фактически тоже перестали существовать: один растворился, другой умер. Сильная женщина, на мой взгляд, — это гораздо серьезней, чем сильный мужчина.
— Из тех сериалов, в которых вы снялись за последние годы, какой симпатичней?
— “Линии судьбы”. Дело не в том, что я там до конца говорю только “да” и “нет”. Конечно, меня всю дорогу все подкалывали, Месхиеву говорили: “Гармаш текста не знает. Как снимать будем?!” Но это все на уровне шуток. Мне просто было интересно по-разному молчать, чтобы за этим что-то стояло. Чтобы его было не просто жалко, а хотелось разгадывать. Не знаю уж, насколько это удалось. Еще была роль в мини-сериале у Хотиненко, “По ту сторону волков”, но мы с ним заключили сделку. Он мне сказал: “Ты такое играл уже, но сделай для меня, а я тебя отблагодарю”. И действительно отблагодарил. Я сыграл у него совершенно крошечную роль в фильме “72 метра”. Думаю, это очень хорошее кино. Я очень редко так думаю.
— И что же это такое?
— Хотиненко — он, кстати, из той же серии, что Абдрашитов и Месхиев. У него сейчас удивительная команда: Марат Башаров, Чулпан Хаматова, Игорь Ливанов, Артем Михалков, Влад Галкин, Андрей Краско. А я там — маленький эпизодик, мичман с подводной лодки. Думаю, “72 метра” — из разряда того кино, по которому все соскучились, и оно очень нужно. Там никаких аналогий с “Курском”, хотя тоже авария на подлодке на глубине, но еще дружба, любовь и желание дать надежду.
— Вы поедете в Голливуд, если вас позовут?
— Нет, уже не тот возраст. То есть, если предложат, конечно, поеду, но, знаете, смешно бывает. Мне тут позвонили в сентябре — я вел переговоры с Гринуэем — и говорят: “Гринуэй придумал вам новую роль, срочно на 12 дней приезжайте в Лейпциг”. Я отвечаю: “Не знаю, тут натура во Пскове, длинная картина”. Как те елки и Голливуд. (Известный анекдот советских времен: Перед Новым годом звонят из Голливуда одному популярному нашему артисту и приглашают сняться у Спилберга. А наш отвечает: “Какой Спилберг! У меня тут елки!” — К.Т.) Хотя, между прочим, свою первую в жизни премию я получил за границей, в Германии, — за лучшую мужскую роль в фильме “Последний курьер”. Я ее всю сыграл на немецком языке, а до фильма знал только “Хайль Гитлер” — и все. Есть у меня, без ложной скромности, способность к языкам. Если посадить в какую-нибудь камеру-одиночку, я за три месяца язык выучу. А ту роль в 95-м году, огромную, главную, три часа девятнадцать минут — интеллигентного русского следователя с Петровки — я всю, от первой до последней буквы, играл на немецком. Жил практически с этой переводчицей и учил наизусть.
— Что значит для вас новая роль в самой громкой театральной премьере — спектакле “Бесы” Анджея Вайды?
— Я вообще всегда говорил, что, если актер хоть раз в месяц произносит текст Достоевского, Чехова или Островского, — это как витамин для больного.
— Когда вы сейчас читаете сценарии, чем руководствуетесь в первую очередь? Чего хотите?
— Веры в то, что написано. Человеческого языка. Не литературщины, не штампа. Хотя, допустим, Миндадзе пишет все свои сценарии языком шифра. Но все равно в нем есть правда, есть жизнь. Поэтому в первую очередь обращаю внимание, есть ли живое, верить хочу.
— А вы знаете, во что верит ваша дочка?
— Надеюсь, что пока — в папу и маму. В бабушку и дедушку. Надеюсь, что пока осознанно верит в существование привязанности между близкими людьми. А уж дальше… С дочкой — отдельный разговор. Вообще я глубоко убежден, что родительское воспитание играет главенствующую роль в жизни человека. Любого
— Что же надо воспитывать в человеке?
— Я верю в преемственность — и человеческую, и профессиональную. Нет, я сделал все, чтобы моя дочь никогда не захотела стать актрисой, я не про это говорю. По большому счету я от нее, кроме чтения, ничего не требую. Это стоит немалой крови, иной раз происходит путем какой-то торговли, подкупа, но успехи бывают. В позапрошлом году ей было четырнадцать, она позвонила от моей мамы из Херсона и сказала: “Успокойся. Я уже читаю “Идиота” не за велосипед”. Лучшего комплимента мне не надо.
Катя ТАРХАНОВА
«Московский комсомолец», 20 марта 2004 года
|
 |